экопоэтические связи: журнал «..эз..»


«Осень» Оксаны Васякиной и рецензия Максима Дрёмова
Открываем новый раздел сайта «вне сезонов» знакомством с другими ракурсами на связь литературы и природы°.
Весной 2024 года Оля Политико написала редакторкам «гало» о подготовке ее дипломного проекта — журнала «..эз..», первый выпуск которого посвящен экопоэзии. Нам кажется важным вступить в диалог и поделиться получившейся сборкой, ведь по задумке Оли весь номер ее журнала тоже строится как сеть переплетенных откликов. В нем есть место как автокомментариям, так и заметкам со стороны, а также интервью. В номере вы найдете тексты и комментарии Марии Земляновой, Лизы Хереш, Максима Дрёмова, Анны Глазовой, Анны Родионовой, Ильи Долгова, Данилы Давыдова, а также две беседы с основательницами «гало» — Лерой Бабицкой и Анной Родионовой.
Продолжаем этот диалогичный формат и размещаем здесь фрагмент номера (текст Оксаны Васякиной «Осень» и рецензию Максима Дрёмова на него), ссылку на скачивание PDF-версии журнала и небольшой комментарий самой Оли.
— прим. ред.
Весной 2024 года Оля Политико написала редакторкам «гало» о подготовке ее дипломного проекта — журнала «..эз..», первый выпуск которого посвящен экопоэзии. Нам кажется важным вступить в диалог и поделиться получившейся сборкой, ведь по задумке Оли весь номер ее журнала тоже строится как сеть переплетенных откликов. В нем есть место как автокомментариям, так и заметкам со стороны, а также интервью. В номере вы найдете тексты и комментарии Марии Земляновой, Лизы Хереш, Максима Дрёмова, Анны Глазовой, Анны Родионовой, Ильи Долгова, Данилы Давыдова, а также две беседы с основательницами «гало» — Лерой Бабицкой и Анной Родионовой.
Продолжаем этот диалогичный формат и размещаем здесь фрагмент номера (текст Оксаны Васякиной «Осень» и рецензию Максима Дрёмова на него), ссылку на скачивание PDF-версии журнала и небольшой комментарий самой Оли.
— прим. ред.
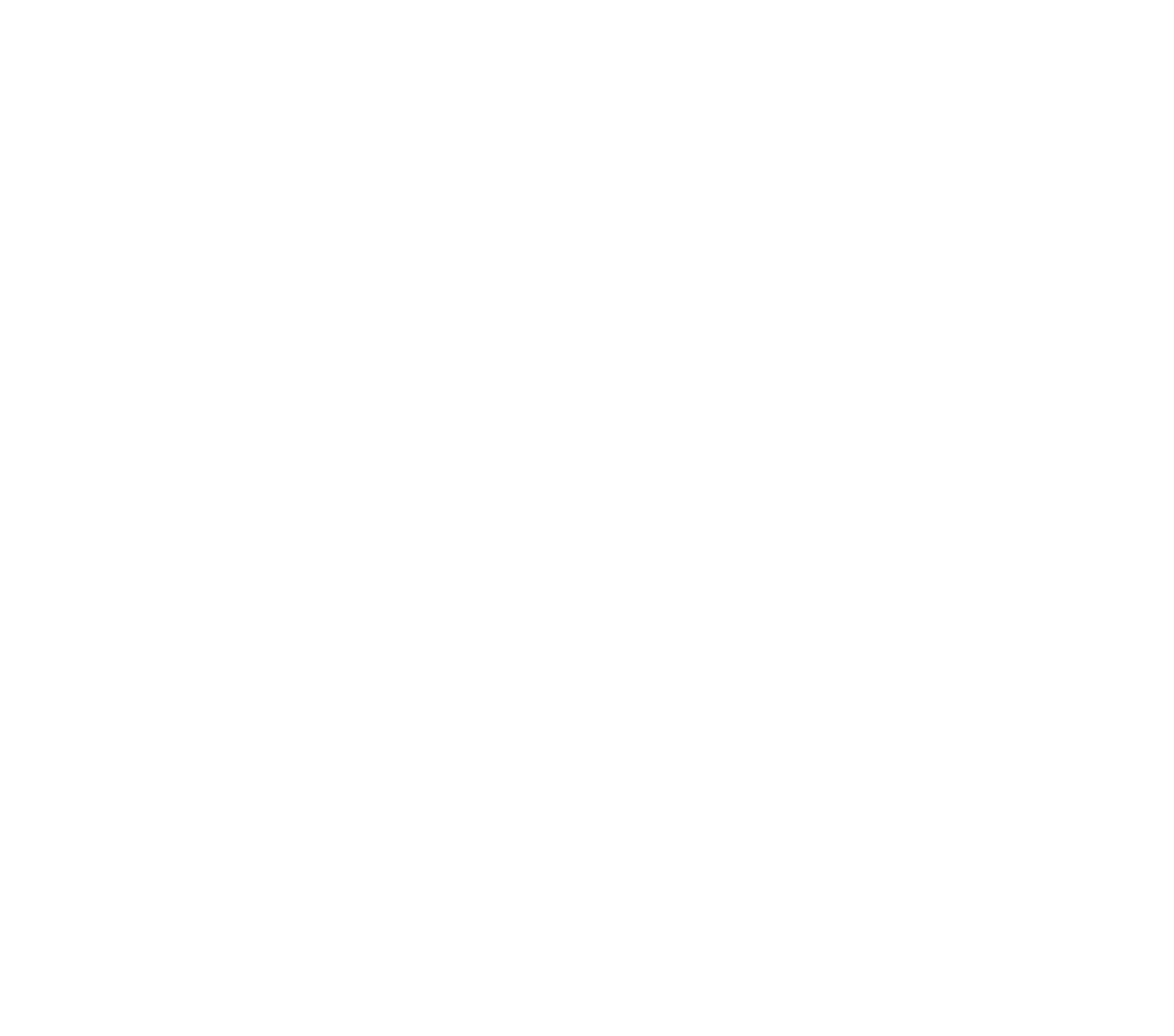
Осень
Оксана Васякина
( 1 )
Алые травы слегли, истощившись за лето,
на горизонте были видны сизые холки холмов.
Я легла на краю оврага,
cмотрела, как шевелились березы
Время сделало меня плоской.
Оно сплющило меня,
так бездомный давит пивные банки
Ночью рыжее зарево пылало над горизонтом.
Ночь была беспросветна, как копоть на боку котелка,
в ней отразилась медная проплешь заката
Ночь была беспросветна, как копоть,
и бархатна, как губы козленка
Мы вдыхали ее,
ты сказала, глядя в ночь в рыжие всполохи света
с силуэтами острых деревьев:
теперь я понимаю, как можно поверить в леших.
Я кивнула, и чернота зарябила
Алые травы слегли, истощившись за лето,
на горизонте были видны сизые холки холмов.
Я легла на краю оврага,
cмотрела, как шевелились березы
Время сделало меня плоской.
Оно сплющило меня,
так бездомный давит пивные банки
Ночью рыжее зарево пылало над горизонтом.
Ночь была беспросветна, как копоть на боку котелка,
в ней отразилась медная проплешь заката
Ночь была беспросветна, как копоть,
и бархатна, как губы козленка
Мы вдыхали ее,
ты сказала, глядя в ночь в рыжие всполохи света
с силуэтами острых деревьев:
теперь я понимаю, как можно поверить в леших.
Я кивнула, и чернота зарябила
( 2 )
В день приезда мы шли мимо конюшни.
Пахло навозом,
цепи звенели,
щелкало тихое сено,
ты разбивала копоть холодным лучом айфона,
ты говорила:
здесь так темно и тихо
словно я растворилась
и меня никогда не будет
Звезды глухие щемили
Ночь нас вдыхала,
мне нравилось это соседство
Мне нравилось думать:
там внутри ее тихой ноздри
березы как пальцы одурманенной кисти
колышутся над оврагом
В день приезда мы шли мимо конюшни.
Пахло навозом,
цепи звенели,
щелкало тихое сено,
ты разбивала копоть холодным лучом айфона,
ты говорила:
здесь так темно и тихо
словно я растворилась
и меня никогда не будет
Звезды глухие щемили
Ночь нас вдыхала,
мне нравилось это соседство
Мне нравилось думать:
там внутри ее тихой ноздри
березы как пальцы одурманенной кисти
колышутся над оврагом
( 3 )
Пижма чернеет в траве,
зонтики болиголова как старые кости стоят над
тропой
Я пустая,
мой лобок зарос буреломом русых волос,
и внутри я сухая, как мертвые предзимние травы
Холод идет, поражая жучков,
но верба готовит красные почки с торчащим
в разрывах пушком.
Я приблизилась и облизала,
они были сладкие,
напоминали копытца новорожденных животных
Холод идет
За завтраком скомканной ниткой показалась божья
коровка в осенней дремоте,
кромка рыжего панциря выдала в ней насекомое.
Я ее перевернула,
она ноги как весла сложила.
Холод сразил ее
Перекличка сорочья парит над холодной землей.
На краю оврага я вижу: он — мохнатая складка.
Березы медленно спят в свете увядшем
Пижма чернеет в траве,
зонтики болиголова как старые кости стоят над
тропой
Я пустая,
мой лобок зарос буреломом русых волос,
и внутри я сухая, как мертвые предзимние травы
Холод идет, поражая жучков,
но верба готовит красные почки с торчащим
в разрывах пушком.
Я приблизилась и облизала,
они были сладкие,
напоминали копытца новорожденных животных
Холод идет
За завтраком скомканной ниткой показалась божья
коровка в осенней дремоте,
кромка рыжего панциря выдала в ней насекомое.
Я ее перевернула,
она ноги как весла сложила.
Холод сразил ее
Перекличка сорочья парит над холодной землей.
На краю оврага я вижу: он — мохнатая складка.
Березы медленно спят в свете увядшем
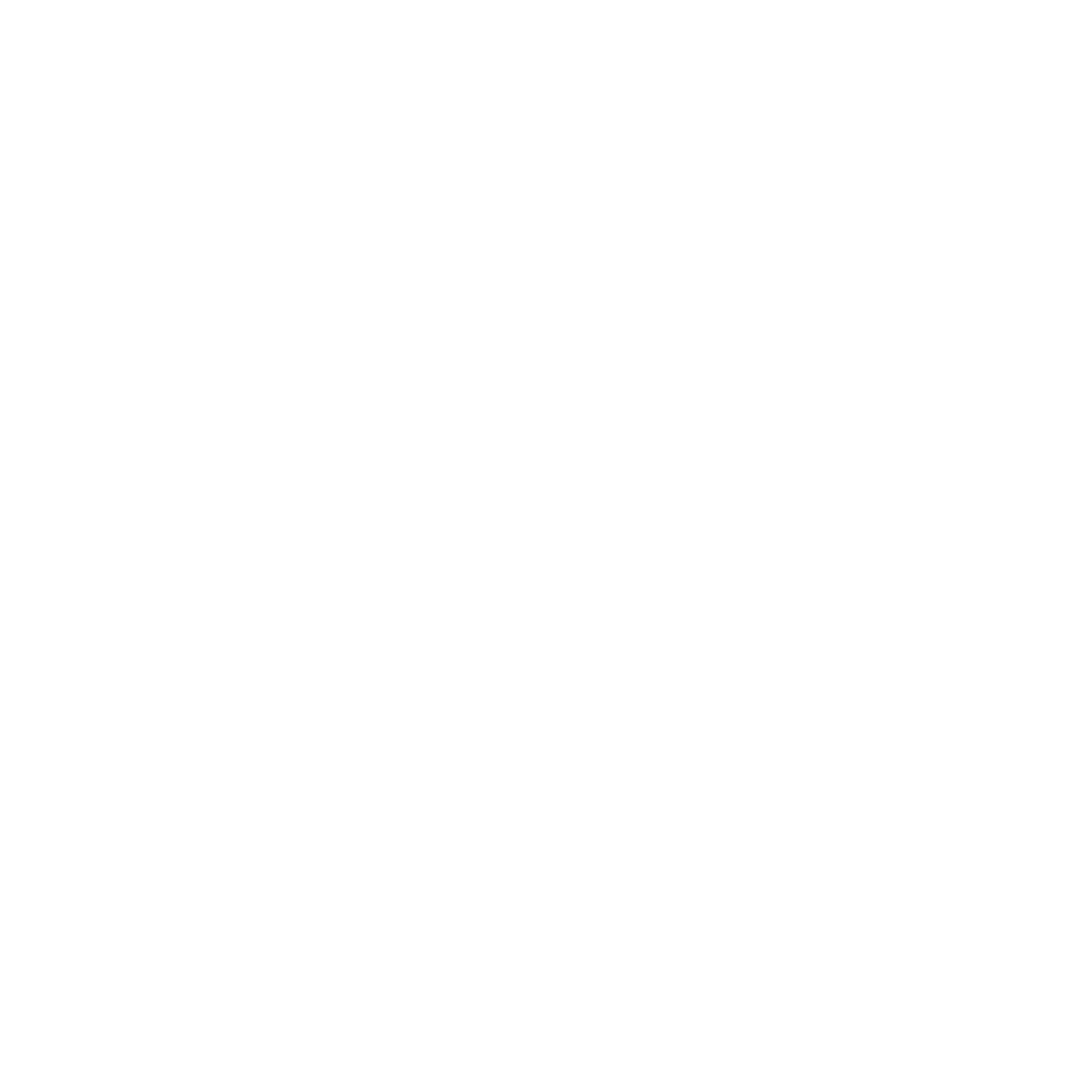
Рецензия
Максим Дрёмов
Имя Оксаны Васякиной следует называть в числе первых, когда речь идёт о ревизии и реставрации «классических» жанровых категорий в поэзии 2010-х-2020-х гг.: вспоминаются и «Ода смерти», и «Штормовые элегии». Уже как минимум полтора века подобные заглавия подразумевают многоступенчатую референцию: они не предзадают ни конкретную форму той или иной степени строгости, ни, что ещё более существенно, конкретного модуса чувственности, который задавал бы тон лирическому сюжету, а указывают на него как на претекст, постулируя в качестве ценного не сходство с жанровой моделью, а отличие от него. В поэзии последних 30−40 лет этот намёк может носить намеренно провокативно-спекулятивный характер: как в случае, например, стихотворения «Элегия» («Разврат чудесных папирос…») Анны Горенко, не обнаруживающего никакого заметного сходства с элегическим жанром и побуждающего читателя к построению логически спорных интерпретативных цепей; бывает, что жанровая апелляция указывает не сколько на особенности конкретного жанра, сколько на общий тон оппонирования современному, безжанровому характеру поэзии: недавно мне уже доводилось отмечать, что в книге «Оды и элегии» Наталии Черных граница между текстами, заявленными в качестве од, и текстами, заявленными в качестве элегий, размыта до степени неразличимости.
Элегии Оксаны Васякиной предлагают иной способ взаимодействия со старинным жанром: сохраняя стоящий за ним эмоциональный комплекс (более или менее сводимый до «меланхоличного наблюдения»; Гаспаров, говоря о романтических элегиях, называет «уныние», «уединение», «разочарование», а интенцию текста формулирует как «заботу „по-своему сказать общее“») и даже отдельные свойственные жанру риторические ходы (в «Штормовых элегиях» есть типичные для элегий вообще риторические вопросы), они переносят модель элегического письма в современные реалии (после модернизма, после концептуализма и разных версий «тёмного письма», после ре-субъективирующего, политического и телесного поворота), предлагая обоюдоострую постановку литературной проблемы: что современного обнаруживается в старинной элегии и какие прообразы могут быть найдены в письме сегодняшнего дня?
«Осень», хотя и не содержит слова «элегия» в заглавии, является элегией типологически: это текст, видящий свою силу в экспозиционных пейзажных длиннотах, выстроенный вокруг композиционного сопоставления чувства и мысли героини с характером окружающего её пейзажа, говорящий об опустошении, цикле жизни и уединении. Новация «Осени» не поверхностна — она характеризуется не только вниманием к телу и осмыслением тела как подобного нечеловеческим агентам и принадлежащего большой экосистеме, характерным для современных феминистских и эко-поэтик, но и предлагает сюжет уединения для двоих, подсвечивая (как упомянутым в тексте фонариком айфона) возможности эмоциональных нюансов разделения иммерсивного наблюдения природы с другим человеком (можно ли быть одной эссенциально, не будучи одной фактически? можно ли быть одной в принципе, если ты обнаруживаешь своё подобие в биосфере? как границы телесной и чувственной сферы двух людей соотносятся с границами между телом и пейзажем?). Способ элегического письма, разрабатываемый Васякиной в «Осени», уже обнаруживает отголоски в новейшей поэзии автор:ок, дебютировавших несколько позднее — мне припоминаются как минимум два текста, написанных из позиции знания об элегиях Васякиной и возможностях подобной ревизии жанра: «Элегия на конец зимы» Лизы Хереш, движущая схожий чувственный и интеллектуальный регистр в сторону напряжённой тёмной метафорики, и «реутовская элегия» Марии Земляновой, напротив, выхолащивающая риторику до минималистичной констатации фактов пейзажа и быта, контрастирующей с нюансированностью переживаемого впечатления. Может быть, масштаб ценности таких новейших элегий сможет быть оценён на дальней дистанции через N лет.
Элегии Оксаны Васякиной предлагают иной способ взаимодействия со старинным жанром: сохраняя стоящий за ним эмоциональный комплекс (более или менее сводимый до «меланхоличного наблюдения»; Гаспаров, говоря о романтических элегиях, называет «уныние», «уединение», «разочарование», а интенцию текста формулирует как «заботу „по-своему сказать общее“») и даже отдельные свойственные жанру риторические ходы (в «Штормовых элегиях» есть типичные для элегий вообще риторические вопросы), они переносят модель элегического письма в современные реалии (после модернизма, после концептуализма и разных версий «тёмного письма», после ре-субъективирующего, политического и телесного поворота), предлагая обоюдоострую постановку литературной проблемы: что современного обнаруживается в старинной элегии и какие прообразы могут быть найдены в письме сегодняшнего дня?
«Осень», хотя и не содержит слова «элегия» в заглавии, является элегией типологически: это текст, видящий свою силу в экспозиционных пейзажных длиннотах, выстроенный вокруг композиционного сопоставления чувства и мысли героини с характером окружающего её пейзажа, говорящий об опустошении, цикле жизни и уединении. Новация «Осени» не поверхностна — она характеризуется не только вниманием к телу и осмыслением тела как подобного нечеловеческим агентам и принадлежащего большой экосистеме, характерным для современных феминистских и эко-поэтик, но и предлагает сюжет уединения для двоих, подсвечивая (как упомянутым в тексте фонариком айфона) возможности эмоциональных нюансов разделения иммерсивного наблюдения природы с другим человеком (можно ли быть одной эссенциально, не будучи одной фактически? можно ли быть одной в принципе, если ты обнаруживаешь своё подобие в биосфере? как границы телесной и чувственной сферы двух людей соотносятся с границами между телом и пейзажем?). Способ элегического письма, разрабатываемый Васякиной в «Осени», уже обнаруживает отголоски в новейшей поэзии автор:ок, дебютировавших несколько позднее — мне припоминаются как минимум два текста, написанных из позиции знания об элегиях Васякиной и возможностях подобной ревизии жанра: «Элегия на конец зимы» Лизы Хереш, движущая схожий чувственный и интеллектуальный регистр в сторону напряжённой тёмной метафорики, и «реутовская элегия» Марии Земляновой, напротив, выхолащивающая риторику до минималистичной констатации фактов пейзажа и быта, контрастирующей с нюансированностью переживаемого впечатления. Может быть, масштаб ценности таких новейших элегий сможет быть оценён на дальней дистанции через N лет.
Оля Политико о журнале «..эз..»
На выбор темы первого номера журнала «.эз.» повлияла моя симпатия и интерес к тому, как сейчас развивается экопоэзия среди русскоязычных авторов, а также результаты моего небольшого исследования, которые сообщили о растущем внимании к экопоэтической тематике в литературном сообществе.
Для меня экопоэзия — это метод литературного осмысления взаимоотношений человека и всего, что им не является. Эко-письмо ощущается вообще как естественный продукт современного литературного процесса — будто бы это именно то, что должно было родиться в условиях нашего нынешнего существования. Ассоциация с эко-повесткой, которая закономерно возникает в голове, когда впервые слышишь слово «эко-письмо», не ошибочна, но в сущности есть одно из ответвлений письма о природе*. Возможно, эко-письмо — это как раз та практика, благодаря которой мир смог бы развернуть тональность эко-повестки. Эко-письмо проникает глубже в слои и клетки, учится налаживать хрупкие взаимосвязи, общаться и «общаться» со всем, что нас окружает и требует диалога для формирования хрупкого мирового равновесия.
Журнал «.эз.» был создан, чтобы рассказывать непогруженному читателю о терминах и явлениях современного поэтического процесса, которые кажутся важными в тот или иной момент. Когда я села и стала думать, как выстроить струтуру так, чтобы человек вне литературного процесса открыл его, прочитал и не сбежал, испугавшись незнакомых слов и сложных формулировок, то пришла к такой структуре. Сначала — вступительная теоретическая статья: раздел, целиком посвящённый определённому понятию, которое в начале разбирается с точки зрения теории, а затем — подкрепляется текстами современных поэтов, автокомментариями, мини-рецензиями и интервью. Так получается, что мы не просто бросаем читателя один на один разбираться с непонятными запутанными текстами, но вежливо приглашаем взглянуть на то, чем мы тут вообще занимаемся.
Материал для этого номера собирался довольно долго — около четырех месяцев. Но мне до сих пор радостно, что на страницах моего журнала разместились именно эти тексты именно этих авторов.
Для меня экопоэзия — это метод литературного осмысления взаимоотношений человека и всего, что им не является. Эко-письмо ощущается вообще как естественный продукт современного литературного процесса — будто бы это именно то, что должно было родиться в условиях нашего нынешнего существования. Ассоциация с эко-повесткой, которая закономерно возникает в голове, когда впервые слышишь слово «эко-письмо», не ошибочна, но в сущности есть одно из ответвлений письма о природе*. Возможно, эко-письмо — это как раз та практика, благодаря которой мир смог бы развернуть тональность эко-повестки. Эко-письмо проникает глубже в слои и клетки, учится налаживать хрупкие взаимосвязи, общаться и «общаться» со всем, что нас окружает и требует диалога для формирования хрупкого мирового равновесия.
Журнал «.эз.» был создан, чтобы рассказывать непогруженному читателю о терминах и явлениях современного поэтического процесса, которые кажутся важными в тот или иной момент. Когда я села и стала думать, как выстроить струтуру так, чтобы человек вне литературного процесса открыл его, прочитал и не сбежал, испугавшись незнакомых слов и сложных формулировок, то пришла к такой структуре. Сначала — вступительная теоретическая статья: раздел, целиком посвящённый определённому понятию, которое в начале разбирается с точки зрения теории, а затем — подкрепляется текстами современных поэтов, автокомментариями, мини-рецензиями и интервью. Так получается, что мы не просто бросаем читателя один на один разбираться с непонятными запутанными текстами, но вежливо приглашаем взглянуть на то, чем мы тут вообще занимаемся.
Материал для этого номера собирался довольно долго — около четырех месяцев. Но мне до сих пор радостно, что на страницах моего журнала разместились именно эти тексты именно этих авторов.
Писательница. Лауреатка премий «НОС» (2022) и «Лицей» (2019). Стихи и проза переведены на пятнадцать языков. Живет и работает в Калининграде.
Поэт, критик, исследователь. Родился в 1999 г. Стихи, рецензии и статьи публиковались в журналах «Воздух», «Новое литературное обозрение», «TextOnly», «Poetica», «Хлам» и др.