(I'm discovering God and she is paper-thin)
astronaut, sir sly
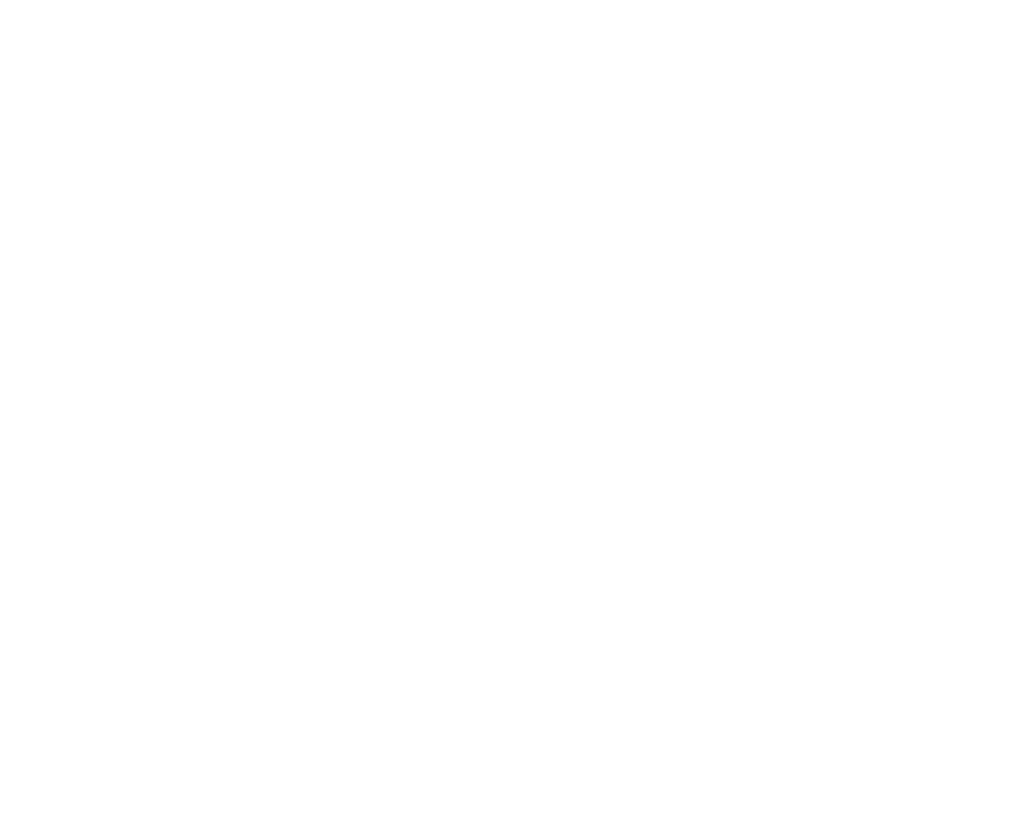
***
чудовище космоса отторгает детство, как молочные пенки. своё я разыгрываю как провинциальный спектакль — зал каждый раз пустой. чудовище наблюдает за мной на расстоянии; наша близость уже вылизалась, субстрат дружбы, осколок кости́, ужасно ужасно пахнет кожей. я глажу облезлое чучело и молчу, глотательница лезвий зарылась в тишину — не от обиды, просто сказать друг другу нечего. совсем не стоит говорить, лучше играть в фарфоровые куклы; если их повернуть головой к земле, они учтиво закатывают глаза, совсем как маленькие викторианские женщины.
чудовище раскинулось в кресле и мифотворчествует. красота слова удается ему лучше других наук, их вдвоем вышвырнуло из утробы, как сиамских близнецов, но это редкий случай: чудовище — младенец-паразит, оно съело красоту слова. каждый струп у него идет в дело, текст нарастет тем, что отвалилось от мертвечины. чудовище мифотворчествует, у него под кожей все слова этого мира и другого мира, за очертаниями млечного пути, в этом кроется безупречность — почти инопланетная; я смотрю на нее, как на любовницу, покорно. чудовище! мне нечего тебе сказать, мифы у меня не выходят, в них нет сердца; сочинять я не умею.
у нас нет секретов друг от друга, мы не умеем держать язык во рту, постоянно навыкате. чудовище обводит меня по кругу: все изрыто тайниками, мы их открываем, но понять не можем — язык против нас. там, где спрятаны дирижабли, земли уже нет, сплошной горизонт смерти. ты боишься его, обещаешь прислуживать вечности, воскресить спейсмэна, написать самый толстый памфлет. чудовище космоса не опускает глаза, и ты не опускаешь, мы обе так делаем.
я спущу на тебя труп собаки, я клянусь, но перед встречей становлюсь мягкая, как прядь волос, вымоченная в молоке. чудовище молчит, мы не разговариваем. бетонные дома и линии электропередач опускаются в февральскую ночь вместе с городом, их день кончился. у меня с собой много упрямости, я с ней никогда не расстаюсь, но с тобой придерживаю — ты ее на дух не переносишь.
старая водонапорная башня проросла мицелием, там мы прощаемся.
***
циркуль скребется, письма тебе получаются каракульные. каждый день я обещаю дойти до почтамта, измученные почтальоны уже сердятся, им не попасть домой, пока я не закончу.
наш климатрон — образцовый, лучший в городе, здесь никогда не бывает снега, даже снаружи. лучи пальмовых листьев упираются в розовый свод; у нас все розовое, даже спирт в пробирках. маленькая вирджиния говорит, что в прошлом над куполом расплавилась космическая сфера и парит, никого не впускает внутрь и не выпускает наружу, к звёздам. под стеклом собирается вода, грядет дождь. вирджиния вытаскивает колбы, я тоже вытаскиваю, мы складываем воду по капле и протоколируем: пастораль, маленькие козы учатся ходьбе, пастушки выпряживаю мысли. люди в белых халатах (их имен мы не знаем) никогда не торопят; бывает, у меня случается письмо; это тоже работа, эксперимент номер ***.
каждая буква препарируется без аффекта. в их первооснове влажное, как у прядильщиц, волокно. мы выкладываем буквы на операционный стол, слепим больничной лампой, от боли они сжимаются и ощупывают собственные границы. все наши приборы из мазута и масла, миру еще не знакомы сложные системы, на всем континенте нет ни одного завода, ни одной орбиты для порабощения космоса. мы в царстве механики жидкостей! ° материя истекает из самой себя, всё так же меняя форму. письма можно коснуться, запустить пальцы в его сияние — жизнь появляется из эфира бессвязной речи. «в этом огромном мешке, этом животе вселенной, утробе будущих вещей»°, в этой «незаканчивающейся истории <…> достаточно места»°, чтобы хранить даже тебя, чудовище космоса.
письмо растет из пропитанной влагой материи, не расширяется, а обволакивает, как подвижная питательная мембрана. завораживает не игра рождения, а длящееся действие: из тумана пустоты на свет выходит крик, виолончелист, в прошлом механик, аккомпанирует младенцам, нарушая все законы синтаксиса; перед нами — хор стриженных барашков. снова я прокладываю письмо овечьим пухом, зализываю конверт, завязываю пуповину и в этот раз не обхожу почтмат стороной. почтальоны, замурованные в крахмале бумаги, скорбно принимают письмо. оно будет доставлено через мгновение, контролёр нашей маленькой земли уже дышит спрессованным кислородом, в кармашке его космического комбинезона прячутся кляксы. «никогда, никогда не приближайтесь к озоновому слою, не ступайте на стратосферу, оставайтесь дома, здесь дел по горло», — был мой манифест, я его нарушила. чтобы что-то прочесть, нужно знать разные языки, а мы обе приспособились любить только свои.
***
у вирджинии одна радость в жизни — аксолотли. личинки никогда не вырастали в ящериц или тритонов, так и жили всю жизнь, барахтались в теплой воде с выпученными глазами, коронованные жабрами из розового пуха. вглядись им в глаза! она не спрячут своих детских, безумных лиц, выставят свои разлатые улыбки, будто знают все человеческие и нечеловеческие секреты. я полюбила их сразу: приветствуя, засунула руку в аквариум, они сначала боялись, но потом приняли — у меня глупая улыбка. это было в те времена, когда французы подружились с англичанами и испанцами и расстреляли мексиканские порты; они хотели денег и положить конец анархии, в учебниках истории они написали: мексиканская экспедиция, 1861 — 1867 гг. оказавшись на юге мехико, в цветочном месте, они выловили тридцать три хвостатых малыша из озера и вывезли из страны в бидонах из-под молока. всегда обреченные на смерть в младенчестве, аксолотли не потеряли прозорливости; посредственность им неведома. если постараться, из них даже можно вырастить взрослых тритончиков, стоит понизить температуру и выпарить воду. цена эксперимента, как и цена экспедиции — маленькое убийство, ненужная смерть.
я заговорилась, вот опять, говорю много лишнего, лучше молчать, запереть язык или набрать в рот солёной воды. вирджиния мучалась, ей снились кошмары, только вблизи с аксолотлями ей было терпимо, как в каннабиоидном тумане. спокойствие вливалось в нее, она парила, засыпая в беспамятстве, как засыпают младенцы, не вспоминая убегающий день, ни о чем не думая. так проходили вечера в нашем климатроне, когда вирджиния вернулась: болезнь одолела ее. мы погружались в потрепанную кушетку, принимавшую угловатую форму наших тел. свет был мягкий, желтоватый, я могла коснуться его, погладить, приручить, как зверя. выползали аксолотли — по ночам они всегда выбирались из аквариума и бродили по куполу, вынюхивая врагов. никаких врагов у них, конечно, не было. мы наблюдали за их игрой, любуясь идеей вечного детства.
(я почти забыла о чудовище космоса. героини, героические женщины преследуют меня. самое пугающее кроется в том, что они, быть может, вовсе не я; я — притворщица, маленькая самозванка, уродка, ребёнка уродков. вирджиния поклоняется мне жестом блудницы, омывающей ноги бога; я этого решительно не стою.)
вирджиния указывает на купол, рассечёный металлом, и говорит: «дальше за ним остальная жизнь». алюминиевый каркас покосился, стекло отцвело и позеленело, как бутылочное горлышко. свой погребальный обряд она готовит за месяц: выпрядает серебряные нити из полыни, опутывает ими пальцы, становясь, как и прежде, высохшей гусеницей. она останется здесь, в этом коконе, неподвижно, как стоячая, горклая вода. она ничего не страшится, не верит в смерть, так учит религия. в смерти самое страшное не уход, а мгновение перед ним. его я не могу осознать, а незнания боюсь как побоев.
я рьяно служу этой земле, цепляясь за память. это уже слишком, тело пропиталось по́том. в климатроне ничего не будет по прежнему. таков его закон: на месте вирджинии должно возникнуть новое. чудовище говорило: упитанные младенцы завидуют твоим щёкам, в тебе жизни хватит превозмочь нищету слов, и скрылось, улетело в самый далёкий космос.
***
последнее письмо отправлено в космос, постамат закрыт, готов к сносу. возвращаясь с кладбища, я вспоминала наш разговор, после которого последовало длящееся умолчание. как и я, чудовище космоса знало притчу, тайну майора тома, этого джанки-мальчика, что размышлял о вечности как о себе. он мечтал сбежать с этой пропитанной грязью и заросшей мхом планеты. ты, мое милое чудовище, зачарованно вглядывалось в след его конденсата, где, казалось, пряталось предназначение истинной гении. оставаясь в климатроне одна, сгущая воздух, обходя каждый недоношенный куст, я рассуждала о тонкой дружбе ветра и космического мусора, и это тянущееся, переходящее из ночи к рассвету чтение неизбежно приводило к злобе. никакой истины, разумеется, не существовало. что я хочу сказать? вслед за матерью и приемным отцом, приемным на одну ночь, я радовалась пустоте, бессмысленности наших занятий. что за игра, достойная фригидной эротоманки: писать строку за строкой, ковыряться в каждом слове, обдумывать каждую паузу речи, не надеясь на вознаграждение. прекрасно как смерть! ее я боялась, ты желала, ты хотела ее уничтожить и воскресить спейсмена. ты улетела, сбылась ли твоя мечта?
я ничего не хочу, надежды у меня нет, я слеплена из глины и живу из упрямости. от дружбы осталась голограмма, то есть — наложение волн. мы никогда не совпадали, у нас странные амплитуды, мы дерганно колеблемся и не сливаемся. алтарник в серебристом халате, серебристом, как медицинская ртуть, шепчет гордой бегинке: если колокольный звон сойдется с биением сердца твоего — погибнешь. мы, как и прежде, всматриваемся в голоса, жрем книги, но ничего не видим.
на пиру смерти мне позволена грубость утраты. да, да, погребальный атавизм, но вирджиния думала иначе: институт становится таковым, когда его обволакивает забвение. главное не переставать сопротивляться, даже изнутри; аналитические философ:ки, как и прежде, ничего не поняли, вынули душу и сердце из речи. я вовсе не хочу столкнуть лбами науку и поэзию, для этого я слаба, как яичная скорлупа. я хочу сказать: между трактатом и повестью нет лакуны. если превознести безумие, чествовать глупость, сжечь кафедру законов и библиотеку поэтик°, то делать это нужно сейчас, на нашей уродливой земле.
***
полет запечатан на дне зрачка, отсутствие хлещет сильнее любого виде́ния. текст уже сложился, и горделивой самозванке не вырвать его из моих альвеол. почтальоны сказали, все письма посланы в срок. мои мусорные рукописи, ты их читаешь? мы с вирджинией ждем твоего возвращения, она уже истлела и переродилась, офелия завидует покою ее кокона. пока тебя нет, я стараюсь изо всех сил, полирую комнату. по утрам здесь пахнет костром.
теперь я знаю, твоя страсть заласкана слабым блеском маргиналий. ты иссохший камень, стал, как они, без сердца; твой ёжик задохнулся, не дождавшись грузовика.
чудовище, ты не знаешь любви, прорастаешь в кости, испытывая острие козерожьей боли. вглядись: амбистома взрослее напущенной алости, триумфа таланта, изношенной поэзии. аксолотли выучились принимать агонию, извлекать уроки из анафемы дружбы, уничтожили институты таланта, отказались ласкать тебя, вычищать лунную пыль из глотки. ты летал в передозе, опускался на дно и шептал: детка, прыгай за мной!
я ненавижу твои тоннели и ракеты°, положенные на гонку вооружений.
я оправдала фамилию и выковала топор,
так бери и бей по льду, пока голубая планета не ударит в лицо.
майор том, ты учился легендам у эха черных дыр, воздвигался на пьедестал избранного, пока твое дискурсивное порно прорастало в закон. где ты был, когда я спалила нотр-дам? джанки-мальчик летал, захватывал космос, писал стихи. расплавившись в корабле обыденности, ты выдумал новый мир, пока земля задыхалась, принимая яд безумия. майор том, до отцов не дотянуться, и ты растерзал детей. обещая бессмертие, ты спутал либертарианство с анархией, звёзды и порошок, кротовые норы с веной, ты продал себя; визг и паранойя.
у цветов и трупов нет слуха, моя злость не для них. чудовище космоса, ты пахнешь смертью, прячешься в перекате звёзд. моя бумажная богиня, я больше не твой дом, я измучена рождением, я заебана, я задыхаюсь тошнотой твоего языка. аксолотли, маленькая вирджиния, мы все — маленький ёжик, свернувшийся на шоссе в ожидании. что еще остается?
высаживать в почву бегонии, свидетельствовать их увядание, изо дня в день, как несговорчивый титан. искать упоения в смерти планеты. не уподобиться отцу. не стать урод:кой.
Изначально я писала этот текст как реакцию на переживание разрыва. Уже тогда появились образы космоса и климатрона. Их я противопоставила друг другу как среды обитания двух героинь. Пока я работала над текстом, 11 богатых и знаменитых женщин сели на корабль Джеффа Безоса и вылетели за границу атмосферы. В медиа это двухминутное путешествие подавалось как первый с 1963 года полет в космос женского экипажа. Бронь места на корабле стоила около 12 миллионов рублей. Уже потом я узнала, что billionaire space race — реальная штука, такой аттракцион для богатых. В этот раз его обернули в квазифеминизм.
Кто-то желали участницам полета не возвращаться на Землю. Но я подумала: человечество натворило много хуйни, зачем распространять ее на другие среды? Это слово я понимаю широко, включая общественный строй, меж- и внутривидовые отношения и все прочее, для чего у меня нет языка, который мог бы описать существующее за границами антропоцентричного опыта. «Никогда, никогда не приближайтесь к озоновому слою, не ступайте на стратосферу, оставайтесь дома, здесь дел по горло», — сообщение, которое мне тогда хотелось передать всему человечеству.
Думаю, текст вышел очень плотным из-за переплетения кучи аффектов. Я не хочу задавать одну рамку для рецепции (будь то разрыв отношений, реакция на политические события), потому что каждое слово, предложение и абзац скрывает маленькую историю. Расскажу только о фрагменте про аксолотлей. Во-первых, аксолотли обычно не вырастают во взрослых особей. Это возможно только в особых условиях при поддержке специалистов, а домашние эксперименты часто заканчиваются смертью малышей. Во-вторых, все живущие в неволе аксолотли (а долго они могут жить только так) — потомки 33 особей с мексиканского озера Сочимилько. В Европу их привезли вооруженные порохом и пушками англичане и французы, которые хотели подчинить Мексику.
В общем, если для этого текста нужно авторское напутствие, пусть оно звучит так: читайте его будто вглядываетесь в калейдоскоп или в черную дыру. Еще скажу, что климатрон придумали для искусственного создания и поддержания климата, и не нужно доверять всему, что говорит заперевшаяcя в нем нарраторка.
